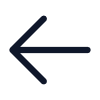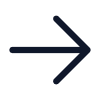Ilya and Emilia Kabakov
Le Centre de l’énergie cosmique
source: apollo-magazine
Pas de « Selfies », states a sign on the white wall of Ilya and Emilia Kabakov’s ‘L’Étrange Cité’ (‘The Strange City’), coyly confirming this year’s Monumenta commission at the Grand Palais as an ideal breeding ground for that inevitable stamp of self-expression.
Taking on the theme of the imaginary city – reliably fashionable, whether in the hands of Piero della Francesca, Jonathan Swift or Italo Calvino – ‘L’Étrange Cité’ is the Kabakovs’ most ambitious installation to date. In a series of symmetrically arranged architectural structures linked by white, arching ligaments, the Kabakovs present a three-dimensional model of the human imagination. Each site showcases works from across the Kabakovs’ practice, centred on elaborate maquettes of utopian structures. Impossible ideas are suddenly mapped out in space – we wander from one to the other. Here we have metaphor of the man who constructs a tower to meet his angel; next we witness the maverick creativity of the scientists who attempt to tap cosmic energy. Two ‘chapels’ are proportioned according to the architectural rules of the Italian Renaissance; a meaning-laden liminal space is entitled ‘The Gates’. At the centre of the installation we encounter the spiritual ‘blank canvas’ of a museum emptied of exhibits.
The first selfie opportunity presents itself at the entrance to the City, where an upturned, horizontal version of the Grand Palais’ iconic glass dome provides the perfect backdrop: kaleidoscopic and kitsch, this is sci-fi set to a soundtrack of mystic lounge music. As a rule, selfies aren’t suited to a truly alien environment. The image needs to trigger the audience’s recognition, to ‘tag’ the subject within a wider sphere of interests and images. Equally, ‘L’Étrange Cité’ cannot be said to be particularly ‘strange’. Its architectural aesthetic echoes the 18th-century visions of Étienne-Louis Boullée or the Glasnost era paper architecture of Alexander Brodsky and Ilya Utkin. Its narrative is haunted by whispers of JG Ballard and Jorge Luis Borges. As the digital hotspots on the outskirts of the city suggest, this imaginary, impossible world is thoroughly ‘geo-taggable’.
The issue of a preordained ‘failure’ is a classic critique of the Monumenta series. The clue is in the name: the demand for a work in which meaning is monumentalised, made durable – and yet these are temporary installations. This paradox is clear in the City’s visual motif of Vladimir Tatlin’s Monument to the Third International (1919–25). Designed to house the various governing bodies of the newly formed Soviet Union, Tatlin’s aborted work of ‘iron and glass and revolution’ consisted of a rotating cube, pyramid and cylinder, piled precariously towards an open top that defied structural solidity. Contemptuous of the confident verticality of the Eiffel Tower, it was a monument designed to be radically anti-monumental. Instead, preserved on paper as the ultimate expression of utopia, ‘no place’, it becomes a suitable motif for Monumenta. Its vertiginous form is mirrored by the installation’s angelic ladder; the volcanoes of Manas; even in the tiny wooden figures that perch at a 60° angle on the architectural models, necks craned in the direction of knowledge.
The installation’s intricate storytelling and whimsical wanderings are the source of its popularity (queues stretch across the Champs Elysées). Yet the Kabakovs’ exploration of utopian ideals is perhaps more successfully expressed in the nearby La cuisine communautaire (1992–5) at the Musée Maillol – an installation as closed and concentrated as the ‘L’Étrange Cité’ is sprawling and semantically charged. While the treasure of Saint Gennaro glitters in the museum’s main galleries, an altogether different hoard is stashed down a grubby flight of steps – the utensils of a communal Soviet kitchen, kettles, cake moulds and cheese graters rise weightless up the walls and are suspended from the ceiling like fly papers. Disembodied voices are heard raised in argument. In the communal context, the exchanges are ironically focused on assertions of individual ownership. The subject matter is undeniably bleak. And yet the installation has a certain warmth of integrity entirely lacking in the vast space of the Grand Palais, which, in the manner of the selfie, slips into knowing self parody even as it monumentalises the moment.
.
.
.
.
.
.
.
source: ilya-emilia-kabakov
Ilya and Emilia Kabakov are Russian-born, American-based artists that collaborate on environments which fuse elements of the everyday with those of the conceptual. While their work is deeply rooted in the Soviet social and cultural context in which the Kabakovs came of age, their work still attains a universal significance.
Ilya Kabakov was born in Dnepropetrovsk, Soviet Union, in 1933. He studied at the VA Surikov Art Academy in Moscow, and began his career as a children’s book illustrator during the 1950′s. He was part of a group of Conceptual artists in Moscow who worked outside the official Soviet art system. In 1985 he received his first solo show exhibition at Dina Vierny Gallery, Paris, and he moved to the West two years later taking up a six months residency at Kunstverein Graz, Austria. In 1988 Kabakov began working with his future wife Emilia (they were to be married in 1992). From this point onwards, all their work was collaborative, in different proportions according to the specific project involved. Today Kabakov is recognized as the most important Russian artist to have emerged in the late 20th century. His installations speak as much about conditions in post-Stalinist Russia as they do about the human condition universally.
Emilia Kabakov (nee Kanevsky) was born in Dnepropetrovsk, Soviet Union, in 1945. She attended the Music College in Irkutsk in addition to studying Spanish language and literature at the Moscow University. She immigrated to Israel in 1973, and moved to New York in 1975, where she worked as a curator and art dealer.
Their work has been shown in such venues as the Museum of Modern Art, the Hirshhorn Museum in Washington DC, the Stedelijk Museum in Amsterdam, Documenta IX, at the Whitney Biennial in 1997 and the State Hermitage Museum in St. Petersburg among others. In 1993 they represented Russia at the 45th Venice Biennale with their installation The Red Pavilion. The Kabakovs have also completed many important public commissions throughout Europe and have received a number of honors and awards, including the Oscar Kokoschka Preis, Vienna, in 2002 and the Chevalier des Arts et des Lettres, Paris, in 1995.
The Kabakovs live and work in Long Island.
.
.
.
.
.
.
.
source: lesinrocks
C’est une ironie du sort dont Ilya et Emilia Kabakov se seraient sans doute passés. Alors que ces artistes russes, qui ont fait leur réputation sur la critique du régime soviétique, s’apprêtent à occuper la nef du Grand Palais, Vladimir Poutine vient d’annoncer sa décision d’établir au sein de la fédération de Russie une nouvelle politique culturelle d’Etat. Confié au ministre de la Culture Vladimir Medinski, qui a récemment déclaré que la Russie devait “protéger” sa culture des errements de la culture contemporaine européenne, ce projet rappelle évidemment les pires heures de l’époque soviétique.
“Les Kabakov sont très touchés par ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Le climat s’est durci. Les artistes sont très inquiets, certains ont vu leurs ordinateurs confisqués”, confirme Jean-Hubert Martin qui, après avoir signé la première exposition personnelle d’Ilya Kabakov en 1985 à la Kunsthalle de Berne, est aujourd’hui le commissaire de l’exposition Monumenta.
Agé de 80 ans, exilé définitivement aux Etats-Unis depuis 1992, Ilya Kabakov reste marqué par les longues années de surveillance du régime soviétique. Peintre, illustrateur de livres pour enfants et figure de proue d’un art conceptuel à la russe, celui qui compte à ce jour parmi les artistes les plus influents de la scène internationale eut régulièrement à rendre des comptes au KGB.
“Ilya Kabakov a obtenu son premier passeport en 1987”, se souvient encore le commissaire, qui le rencontre pour la première fois à la fin des années 70 alors qu’il prospecte pour la préparation de l’exposition Paris-Moscou au Centre Pompidou. “Après son installation à la fin des années 80 à Long Island, Kabakov ne voulait pas retourner en Russie. Il a attendu l’an 2000 et la proposition de rétrospective du musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg pour y retourner.”
Cet exil marque en effet un tournant majeur dans l’œuvre de Kabakov. D’abord parce que cette époque coïncide avec son association, à la scène comme à la ville, avec sa compagne Emilia qui, à propos de leur duo, commente avec humour : “Je fais tout ce qu’Ilya ne fait pas.” Depuis, les Kabakov courent le monde avec leur art de l’installation, dont ils sont aussi les meilleurs théoriciens. “Pour moi, (l’installation) inaugure une période novatrice et décisive, d’une portée égale aux trois grandes périodes qui se sont succédé dans l’histoire de l’art européen : celles de l’icône, de la fresque et du tableau”, écrit ainsi Ilya Kabakov dans un texte du catalogue de l’exposition que lui consacre en 1995 le Centre Pompidou.
Au Grand Palais, cette démonstration du pouvoir de l’installation immersive atteint son apogée. Au point d’accoucher d’une ville entière, L’Etrange Cité, qu’une armée de maçons et de charpentiers s’évertue à faire sortir de terre. Pour le spectateur-promeneur, la visite commence par une première embûche, un immense mur d’enceinte qui protège cette ville fortifiée, déployée comme un champignon atomique sous la verrière du Grand Palais. Une immense coupole lumineuse, inspirée par l’orgue de lumière du compositeur russe du début du XXe siècle Alexandre Scriabine, donne ensuite le ton de l’épopée. Passée une grande arche triomphale mais déjà en ruine, il pourra visiter tour à tour les cinq bâtiments et les deux chapelles qui quadrillent ce territoire grand comme un terrain de foot.
“Le premier bâtiment est un musée où les cimaises sont vides et où seuls les halos de lumière indiquent l’emplacement des toiles. Une musique de Bach contribue à la mise en scène. Ici encore, on est en plein phénomène synesthésique, avec le transfert du visuel à un autre sens, l’écoute, beaucoup plus abstrait. Chacun est invité à refaire son musée imaginaire, commente Jean-Hubert Martin. Chacun des bâtiments entretient des liens avec l’immatériel et la métaphysique. Le musée est un lieu laïque, bien sûr, et il n’y a aucune fascination particulière pour le fait religieux chez eux, mais ils pensent aussi que c’est un lieu sacré.”
Suivront une ville tibétaine dotée de son double céleste, une installation baptisée Portails, douze peintures figurant le même motif mais réalisées, pour chacune, dans un style pictural particulier ; deux chapelles peuplées de peintures de propagande ou d’inspiration baroque ; et un centre de l’énergie cosmique.
“Chaque architecture est accompagnée de récits, décrypte Jean-Hubert Martin. Pour ce dernier espace, par exemple, c’est l’histoire d’un observatoire construit sur les vestiges de fouilles archéologiques où l’on aurait découvert des calices servant à communiquer avec le cosmos.”
Artistes de la narration par excellence, les Kabakov utilisent en effet la fiction comme un matériau à part entière, à l’image de La Maison aux personnages de Bordeaux, hantée par de drôles de locataires, ou de cette improbable généalogie fictive mise en branle en 2000, Une histoire alternative de l’art : Rosenthal, Kabakov, Spivak, pour laquelle Ilya s’inventa un père spirituel, Charles Rosenthal, un double baptisé Kabakov (!) et un disciple, Igor Spivak. Une histoire (de l’art) à tiroirs, dont les Kabakov sont aujourd’hui les maîtres d’œuvre incontestés.
.
.
.
.
.
.
.
.
source: winzavodru
Работы Ильи Кабакова выставляются по всему миру, а цены на них растут с каждым годом. Такое пристальное внимание к его творчеству наблюдается в течение двух последних десятилетий, если точнее – после эмиграции художника на Запад в 1987 году. До этого с самого детства Илья жил в Советском Союзе и, несмотря на тяжелые условия для творчества, более тридцати лет создавал свои работы.
Илья Иосифович Кабаков родился 30 сентября 1933 года в еврейской семье – слесаря Иосифа Бенционовича Кабакова и бухгалтера Беллы Юделевны Солодухиной. До 1941 года семья жила в Днепропетровске, украинском городке на берегу Днепра, но наступление немецких войск заставило их бежать сначала на Кавказ, а затем в Узбекистан, где они на несколько лет поселились в Самарканде.
В 1943 году, когда отец ушел на фронт, Илья поступает в Ленинградскую Академию художеств, из-за бомбежек Ленинграда временно эвакуированную в Самарканд. В те годы многие советские учреждения вынуждены были скитаться по городам и весям, подобно гражданам этой страны. В 1944 году Академию вновь эвакуируют, на этот раз в Загорск (небольшой городок в Московской области). Вместе с матерью Кабаков последовал туда же и поселился в Троице-Сергиевой Лавре. С окончанием войны Академия вернулась в Ленинград и вновь обрела статус пансиона, но Кабаков не мог воспользоваться этим: его мать не получила всех необходимых документов и не смогла поселиться в Ленинграде. С помощью директора Ленинградской Академии художеств Кабаков переводится в художественную школу в Москве, где ему предоставляют общежитие, а его мать тем временем находит работу на текстильном складе в Загорске.
Окончив художественную школу в 1951 году, Илья поступает на факультет графики в Московский государственный академический институт им. Сурикова. В качестве основной дисциплины на втором курсе он выбирает книжную иллюстрацию и начинает подрабатывать оформлением детских книг. До 1987 года это было его основным средством к существованию. Первой опубликованной книгой, над которой он работал в качестве художника-иллюстратора вместе со своим другом Кириллом Соколовым, была “Зеленая Чернильница” Николая Лупсякова. Кабаков проиллюстрировал около 150 детских книг, прежде чем получил возможность жить за счет продаж своих инсталляций на Западе. Занимаясь работой, которая давала средства к существованию, Кабаков начинает создавать произведения на интересующие лично его темы – картины, которые впоследствии составят основы его творчества. “Работы для себя”, как он их называл, состояли из огромного числа абстрактных рисунков, выполненных цветными карандашами на бумаге. В период между 1953 и 1960 годами, по подсчетам художника, было создано около 500-600 таких рисунков в духе абстрактного экспрессионизма. Многие из них были потеряны или подарены в разное время, но значительное количество сохранилось и составило два альбома — “Начало” и “Четыре альбома”.
Наиболее важные личные знакомства для Кабакова пришлись на годы его учебы в Суриковском институте: там он познакомился со многими талантливыми людьми, среди которых по силе влияния особо выделялся преподаватель теории искусств Михаил Алпатов. Среди студентов друзьями Кабакова были Эрик Булатов и Олег Васильев, с ними он часто встречался на даче Булатова под Москвой. Вместе с Булатовым они поддерживали связь с предыдущим поколением российских художников, обучаясь у Роберта Фалька – одного из основателей дореволюционного общества художников “Бубновый валет”. Без сомнений, Кабаков считал дачу Булатова чем-то вроде райских кущей – местом, которое идеально подходит для работы. Именно там он создал многие полотна в стиле Сезанна: портреты, ландшафты и семь или восемь натюрмортов; портреты и ландшафты сейчас находятся в Нью-Йорке, а натюрморты, как и многие другие работы русского периода жизни Кабакова, пришлось оставить в Москве при эмиграции.
В течение нескольких лет, до и после выпуска из Суриковского института в 1957 году, Кабаков много ездил по Советскому союзу – путешествовал по Молдавии и Кавказу, организовывал экспедиции в Самарканд и Сванетию. В 1960 году художник впервые выехал за рубеж. Германская Демократическая Республика поразила его кардинальным отличием от той культурной атмосферы, которая окружала его в Москве. Хотя ГДР в то время и была неотъемлемой частью советского блока, Кабаков почувствовал ее близость к Западу, и этот опыт не прошел бесследно. Следующие два года он усиленно изучает немецкий язык и пересматривает систему своих культурных ориентиров.
1960 был для художника важным годом и с практической точки зрения. Вместе с Юло Соостером они снимают у местного ЖЭКа под мастерскую подвальное помещение на улице Малые Каменщики, принадлежавшее Союзу художников. В том же году Кабаков делает первые попытки вступить в Союз художников, однако приняли его туда только шестью годами позже – в 1966-ом. Членство давало доступ к “худтоварам”, которых всегда не хватало, а также возможность бывать в так называемых “домах творчества”, и эта привилегия многое дала Кабакову в творческом плане – особенно поездки в Крым и в Литву. К тридцатилетнему юбилею московского отделения Союза художников в Манеже была организована выставка, объединившая работы старшего поколения “формалистов” (Фалька, Шевченко) и более поздних нонконформистов, включая Неизвестного, Белютина и Соостера. Официальное мнение властей – категорическое неприятие – было выражено в резкой форме лично Хрущевым, и выставлять работы, которые не соответствовали советской догматике, стало практически невозможно. Квартира Юло Соостера, друга Ильи Кабакова, превратилась в одно из важнейших мест общения неофициальных художников, не вписывающихся в идеологически выдержанные рамки, навязываемые советским режимом. Здесь в шестидесятые годы проходили встречи – так называемые “вторники”. Важнейшую роль в этом сообществе играли западные журналисты, которые старались привлечь внимание к существованию этой “другой” линии русского искусства и без усилий которых она бы оставалась в безвестности. Так, итальянский писатель Антонелли Тромбадоре даже организовал выставку, полностью составленную из “подпольных” работ Кабакова, Соостера, Неизвестного, Брусиловского и Соболева. Этих художников объединяло и то, что их мастерские находились по соседству друг с другом, на Сретенском бульваре. Илья Кабаков переехал туда в 1968-ом, получив разрешение Союза художников занять под мастерскую чердак дома 6/1, ранее принадлежавшего страховому обществу “Россия”. Выхлопотать мастерскую Кабакову, как и некоторым другим художникам, помог Давид Коган. Чердак стал первой настоящей мастерской Кабакова. В том же доме и тоже на чердаке обосновался и Соостер. Мастерская сделалась местом, где художники активного делились идеями, вели оживленные дискуссии, слушали лекции. Позже этот дружеский круг получил наименование “группы Сретенского бульвара”.
Появление собственной мастерской не только давало возможность встречаться с друзьями, но и создавать гораздо более масштабные произведения. До 1968 года б?льшая часть работ Кабакова – рисунки миниатюрного формата, как правило, 20 х 30 см (между 1960 и 1968 годами их было создано около 200-250). Были и большие холсты, но так немного, что они представляли скорее исключение. Наиболее известные большие полотна – “Голова с шаром” (200 х 160, 1965 г.), “Мальчик” (186 х 160, 1965 г.), “Трубка, трость, мяч и муха” (130х160, 1966 г.) и “Автомат и цыпленок” (100 х 100 х 50, 1966 г.).
После 1968 года Кабаков начинает работу над несколькими проектами, которая растягивается на несколько лет, -и отдельные произведения, являющиеся частью этих проектов, зачастую поражают своими размерами. В 1969 он начинает серию так называемых “белых картин”, выполненных на листах мезонита (прессованного картона). Эта текстура подчеркивала плоскостность живописной поверхности, которая лишь кое-где нарушалась незначительными деталями. Первая картина этой серии называлась “Бердянск спит” (150 х 100,1969-70) – подобие пейзажа, где несколько фигуративных изображений вторгаются в огромное пустое белое пространство, которое предлагает самому зрителю наполнить его смыслом.
За картиной “Бердянск спит” последовали “A Man and Small House” (150 х 100,1970) и “Death of the Dog Alya”(180 х 230,1970). Эти полотна во многом были началом новой серии огромных холстов, которые художник закончит несколькими годами позже, где еще большее пространство светлой поверхности задумывается как фиксация света, исходящего как из самой картины, так и извне. Таким образом автор выделяет самые, казалось бы, незначительные черты, не навязывая определенной точки зрения, позволяя глазу свободно блуждать по картине. К работам этой серии также относятся ’12 Little White Men Above a Plate’ (260 x380, 1977), ‘Flying’ (260 x 380, 1978) и ‘The Garden’ (260 x 380, 1978).
Размер этих работ и то воздействие, которое они оказывают на зрителя, необычайно обостряют рефлексию по поводу самих условий восприятия, физического и концептуального взаимодействия произведения искусства и его зрителя, устанавливая между ними равновесие. В течение последующих двух десятилетий Кабаков все больше концентрируется на взаимодействии искусства и физического пространства его экспонирования, а также на том реальном временном континууме, в котором происходит взаимодействие зрителя (а зачастую также и слушателя, и читателя) с этим пространством. Еще одной чертой творчества Кабакова начала 1970-х годов, приблизившей его к концептуализму, стало использование в пространстве картины текста, который со временем начнет заполнять все доступное для него пространство. Первыми экспериментами в этом направлении стали “Где они?” (147 х 350,1970 г.), “Ответы экспериментальной группы” (370 х 147,1970 г.), “Все о нем” (370 х 147,1970 г.), в которых внутрь картинной рамы помещались бытовые объекты, снабженные текстовыми комментариями. И снова зритель имеет дело с полотном размером со стену обычной советской квартиры, в котором стирается грань между искусством и жизнью, декоративностью и функциональностью, а помещенный на нем текст зачастую становится пародией на официальную инструкцию или объявление.
Возможно, самым плодотворным экспериментом Кабакова с практиками экспонирования, интересовавшими его в начале 70-х, было изобретение жанра альбома, который функционировал одновременно как скульптура, иллюстрация, театр и литература. Наиболее значимые альбомы, “Десять персонажей”, над которыми Кабаков работал четыре года, – с 1970-го по 1974-ый, предваряют создание нескольких инсталляций, созданных лишь в середине следующего десятилетия. Вместе с тем, прямой связи между этими альбомами и более поздней одноименной инсталляцией нет. Каждый из десяти альбомов строится вокруг определенной темы или состояния, которое занимает сознание персонажа и на которое нанизываются все его переживания и история всей его жизни. Вымышленный персонаж обретает черты реального благодаря комментариям, которые даются от имени других персонажей. Взаимодействие текстового и визуального материала противостоит завершенности нарратива, так как эти два плана существуют в отношениях взаимного притяжения и отталкивания в равной мере. Ни один из комментариев не является завершенным, не обладает большей авторитетностью, чем другой. Каждый альбом является завершенным и незавершенным, включая в себя чистый лист бумаги, который зритель как бы должен заполнить своим воображаемым комментарием, – прием, схожий с тем, который уже использовался в “белых картинах”. Вместе десять альбомов составляют 460 нескрепленных между собой листов с рисунками, выполненными в смешанной технике акварели и цветного карандаша.
Творчество Ильи Кабакова в 70-е годы развивалось в определенной, свойственной ему логике; однако новшества, введенные Кабаковым, были укоренены в той среде, которая питала и объединяла творчество художников Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Павла Пепперштейна, Комара и Меламида, самого Кабакова, а также писателей Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна, Всеволода Некрасова и Владимира Сорокина. Они составили ядро Московского кружка концептуалистов. Среди прочего, существование подобного сообщества позволяло Кабакову выставлять собственные альбомы, предоставляя своим друзьям возможность их комментировать, и таким образом раздвинуть рамки своего проекта, который мог разворачиваться как в режиме индивидуального изучения, так и в контексте галереи, театра или текста. Кроме того, концептуалисты часто встречались для обсуждения основных принципов своего искусства, предлагая темы для этих обсуждений по очереди. Решающий вклад в структурирование этих дискуссий принадлежит Борису Гройсу, который до сих пор считается основным теоретиком и интерпретатором творчества Кабакова.
Следующим шагом становится изобретение Кабаковым персонажей, которые являются создателями собственных проектов. В результате в 1978-83 гг. появляются отдельные корпусы произведений, которые аттрибутируются художникам, стиль которых явно отличен от стиля самого Кабакова и которым присваиваются имена-псевдонимы. Эти “полуавтономные” корпусы произведений не только являются частью творческого наследия Кабакова, но формируют основу для некоторых наиболее значимых его проектов, например, гигантской инсталляции “Жизнь и творчество Шарля Розенталя”, выставленной в Мито в 1999 году и во Франкфурте-на Майне в 2000-2001. Она представляет собой исключительно сложный и объемный комплекс картин, набросков и макетов, имитирующий панораму творчества некоего художника, в работах которого нашли свое отражение все наиболее успешные тренды русского и советского искусства ХХ века. Первыми опытами подобного скрупулезного исследования возможностей, связанных с имитацией чужого произведения, стали работы “Проверено!” (260х380,1981 г.) и “Супермаркет” (260х190,1981 г.), которые апроприируют условности и тематику социалистического реализма. Хотя сюжетом картины “Проверено!” является утверждение лояльности советских граждан по отношению к партии, цель Кабакова, безусловно, состоит в исследовании тех границ, за которыми данный художественный метод уже перестает служить господствующей идеологии. Кабаков никогда не отказывался от рефлексии над культурно-историческими истоками своего творчества, а также над эстетическими конвенциями, в которых история артикулируется. В определенные периоды Кабаков отдает предпочтение практикам, внешним по отношению к таким конвенциям, в другое время он подрывает их изнутри, и два этих противоположных подхода существуют в постоянном равновесном напряжении.
Наиболее полное отражение социальные отношения советской эпохи нашли в ассамбляжах, составленных из объявлений домкома, оформленных рукой какого-нибудь неумелого жэковского художника. Эти пародии на официальные уведомления похожи на оригиналы как две капли воды, несмотря на явную придуманность. Они представляют собой графики и распоряжения, на доске объявлений в коммунальной кухне, которые регламентировали быт и порядок того времени. Например, “Вынос мусора” (150 х 210, 1980) и “Воскресный вечер” (150 х 210, 1980). Коммуналки, в которых соседи без перерыва ведут войны за пространство и воздух, которого становится все меньше, остаются основной темой творчества Ильи Кабакова. В начале 80-х годов проблематика коммунального сосуществования становится в его работах основной – период между 1978 и 1983 годом Кабаков называет “ЖЭКовским”. Погружение в рутину коммунальной жизни ярче всего отражено в “Кухонной серии”, где за счет концентрации зрительского внимания на привычных бытовых предмаетах происходит остранение их внешнего вида и функций.
Переворачивая общепринятую культурную иерархию, которая строится на принципе производства, в начале 1980-х годов начинает культивировать “мусорную” эстетику, в которой внимание к лишнем, брошенному, ненужному превращается в обсессию.
Несколько его проектов выстроены на собирании выкинутых вещей, сохранении того, что должно было бесследно исчезнуть, Кабаков задается вопросом о локализации ценностей в системе значений, где художественное суждение обусловлено идеологическим императивом. Валоризуя мусор, Кабаков поднимает вопрос о взаимосвязи искусства, рынка и традиции. Следующим шагом стала валоризация, придание культурной значимости и статуса реальных работам, которые никогда не существовали. В 1982-1983 годах он создает инсталляцию для Пушкинского музея – “Муха с крыльями”. Работа создавалась не по заказу музея, и, что не удивительно, никогда не была там показана (впоследствии ее приобрел Kunstverein Ганновера). Кабаков задумал композицию из 132 листов печатного текста, который концептуально отсылал к единственому изображению мухи. Само изображение было довольно заурядным, и технически, и художественно, но эта несодержательность преодолевалась множественностью противоречивых интерпретаций. Тем самым Кабаков создавал основу для понимания искусства как области конфликта, а не единомыслия.
С середины 80-х Кабаков начал тяготеть к созданию “тотальных инсталляций”, для чего раньше у него были весьма ограниченные возможности. Только после эмиграции на Запад в 1987 году он получает к огромным выставочным пространствам. Возможно, первым завершенным проектом такого рода была инсталляция “Человек, улетевший в космос” (1985), которую Кабаков выставлял еще в своей мастерской. Эта инсталляция представляет останки еще недавно обитаемой комнаты, в центре которой находится катапульта, достаточно крепкая, чтобы выдержать вес человека. Над этим устройством, в потолке зияет дыра, которая, судя по всему, была пробита бывшим обитетелем комнаты, когда тот улетал. Эта остроумная и в то же время сложная инсталляция выражает отношение Кабакова к советской действительности с ее лицемерием и утопичной грандиозностью и акцентирует внимание на противоречии между советскими технологическими амбицими и убогостью быта (…).
Одновременно с этой инсталляцией Кабаков работал и над другой — “Человек, который никогда ничего не выбрасывал”. Этот человек жил в комнате, заваленной мусором. Привычка этого отсутствующего обитателя сохранять все без разбора, без разделения на важное и неважное, становится метафорой того, как работает культурная память, ориентированная на постоянную ревизию и переписывание собственной истории: “Лишить себя хотя бы одной из вещей, значит расстаться с частью себя прошлого, и в каком-то смысле – перестать жить”.
Первое знакомство Кабакова с условиями, в которых работают западные художники, состоялось в 1987 году в Kunstverein города Граца, когда Кабакову предложили полугодовую резиденцию в Германии. Однако уже через три месяца ему пришлось вернуться в Россию, так как в январе 1988 года в Бердянске умерла его мать.
За время, проведенное в Германии, он успел создать инсталляцию “Перед ужином” в фойе Оперного театра Граца. Затем Кабаков ненадолго возвращается в Россию, и оттуда едет в Нью-Йорк, где создает свою главную инсталляцию -”Десять персонажей”. “Человек, улетевший в космос” и “Человек, который ничего не выбрасывал” вошли в число десяти рассказов об обитатлеях некоей коммунальной квартиры. (…)
1989 год стал поворотным в жизни Ильи Кабакова еще и потому, что именно с этого времени он начинает сотрудничать со своей будущей женой Эмилией (они поженились в 1992-ом). С тех пор они работают вместе, хотя доля участия каждого из них в разных проектах может быть разной. (…) Если раньше Кабаков разделял свое творчество с разного рода фиктивными авторами, то теперь он делает решающий шаг и вступает в настоящее сотворчество.
В 1991 году в Stаdlische Kunsthalle в Дюссельдорфе впервые была представлена инсталляция “Красный вагон”, впоследствии вошедшая в коллекцию Висбаденского музея. Это произведение уникально тем, что сочетает в себе три периода и стилистических направления: исторический авангард, советский соцреализм и андерграундный концептуализм 70-80-х годов. Важной частью работы является музыкальное сопровождение, особенно советские песни довоенного периода, оказывающие, как правило, на посетителей гипнотическое воздействие. (…)
За “Красным вагоном” сразу друг за другом последовали инсталляции “Мост” (Музей современного искусства Нью-Йорка), “Жизнь мух” (Kunsthalle, Кельн) и “Туалет” (Documenta IX, Кассель,1992). “Туалет” произвел сильнейшее впечатление на международную аудиторию. Расположенная во дворе Музея Fridericianum, инсталляция Кабакова представляла небольшое побеленное сооружение, выглядевшее как обычный общественный туалет. (…) Внутри нет никаких унитазов и раковин: внутри туалета художник воспроизвел узнаваемый интерьер советской квартиры. Интимность жилья здесь оказывается нарушена вторжением общественного: у посетителя возникает ощущение незваного гостя и чуть ли не взломщика, который спокойно может помочиться на мебель. Смешение категорий общественного и частного пространств усугубляется еще и тем, что двухкомнатные квартиры, в которых, как правило, и проживали граждане России и Восточной Европы, были настолько стандартизированы, что само понятие дома утрачивало индивидульность, приватность и становилось анонимным.
После Касселя Кабаковы перебираются в Нью-Йорк. В галерее Рональда Фельдмана проходит их третья выставка – “Случай в Музее, или музыка воды”. Этот проект был прдставлен как результат сотрудничества Кабакова с неким Степаном Кошелевым, но на самом деле Кошелев, как и Розенталь, – один из вымышленных Кабаковым персонажей. (…)
Кабаков в течение одного года читает курс лекций, посвященных концепции тотальной инсталляции, в художественной школе Штедель (Франкфурт-на-Майне). В 1992 году художнику была вручена Премия Артура Копке в Копенгагене и Премия Людвига в Аахене, в 1993 – почетный диплом Венецианской биеннале за инсталляцию “Красный вагон”, Премия Макса Бекмана от города Франкфурта-на-Майне, а также премия Фонда Йозефа Бойса в Базеле. Среди последующих наград были премии Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres за инсталляцию “Мы здесь живем” в 1995, Kaiserring der Stadt Goslar в 1998 и степень почетного доктора Бернского университета в 2000, а также, не самая последняя награда – гражданство США в 2000 году.
С начала 1990-х годов гонорары Кабакова растут по экспоненте. В 1993 году художник создает 4 больших инсталляции: “Мы здесь живем” (Центр Жоржа Помпиду), “Корабль моей жизни” (Кунстферейн в Зальцбурге), “Школа №6″ (Фонд Циннати, Марфа) и “Большой архив” (Стеделик музей, Амстердам).
“Мы здесь живем” – выдающаяся притча о брежневской эпохе, времени, когда культура Страны Советов находилась в застое. Инсталляция представляет собой несколько бытовок, в которых живут рабочие, строившие идеальный город. Но стройка уже давно остановилась, и временное убежище превратилось в удручающе постоянное место жительства.
“Корабль моей жизни” и “Школа №6″ – пожалуй, наиболее элегические по настроению и личные работы Ильи Кабакова. “Лодка” -деревянная конструкция, груженная старыми личными вещами – символическими оболочками прошлого – как челн Харона, предназначенный только для одного пассажира. (…)
“Дворец проектов” (The Roundhouse, Лондон, 1998) и “50 инсталляций” (Kunstmuseum, Берн, 2000) станут своеобразной кульминацией творчества художника этого периода. Безусловно, в течение четырех десятилетий плодотворной работы проводились и менее масштабные (хотя и не всегда существенно менее масштабные) выставки произведений Кабакова, например “Памятник потерянной перчатке” (Musee d’Art Contemporain, Лион,1996), “Treatment with Memories” (Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк, 1997), “16 небольших инсталляций” (Museum van Hedendaagse Kunst, Антверпен, 1998), “The Children’s Hospital” (Irish Museum of Modern Art, Дублин, 1998-1999), “Старый мост” (Гановер-Мунден, 1998) и “Фонтан” (Миддельбург, 2000).
“Дворец проектов” соединил в себе всю историю уникального пути Кабакова-художника через развернутый ряд идей о сообществе искусства. Каркас дворца сделан из легкого дерева и пластика, внешне напоминает спиралевидные конструкции Вавилонской башни или башни Татлина – эти символы честолюбия высмеивают отношения между общественным и частным и ставят под сомнение культурное объединение и отчуждение. Само название “Дворец проектов” напоминает советскую манеру употреблять подобные громкие названия для обозначения общественных заведений, как, например “Дворец культуры”. Такие “дворцы” создавались для того, чтобы дать народу почувствовать свою причастность к историческим процессам. Или, по крайней мере, для создания иллюзии такой причастности. Внутри “Дворец проектов” представляет собой последовательность небольших комнат, в каждой из которых расположена одна или несколько из 65 инсталляций на тему “Как улучшить себя” или “Как улучшить мир”. Подавляющее большинство планов разработаны и направлены на то, чтобы хоть как-то улучшить условия тех, кто жил снаружи в немыслимо стесненных условиях. Идея “Дворца” в столкновении простора огромного выставочного зала и клаустрофобии в замкнутом пространстве московских блочных домов. При сравнении проектов развивался стереотип восприятия образа жизни за этими дверьми. Множество проектов Кабакова направлены на то, чтобы создать атмосферу полной изоляции. Этот эффект достигается акцентированием внимания на потаенных углах, чуланах и трещинах в стенах. Сам “Дворец” является инсталляцией “в себе” – вместилищем, в котором он должен бы находиться сам “на просторе огромного выставочного зала”.
Хотя часть инсталляций и показывает жизнь внутри семьи или в каком-то другом социуме, основная тема проектов – одиночество в замкнутом пространстве, являющееся нормой. Все связи с другими людьми за пределами квартиры сведены к минимуму (проект 8 – это знаменитая корзина с деньгами в обмен на продукты). Снова и снова условия индивидуальных проектов будут влиять на возможность получения преимущества реализовать цели проекта “не покидая стен комнаты”. Контрастность частного и общественного гораздо чаще облекается в определенную форму, чем не являющиеся такими контрастными жизнь коммунальной квартиры и проекты не менее, чем глобального масштаба, вроде равномерного распределения энергии по всей планете, воскрешение мертвых (всех, кто когда-либо жил) и схемы разработки простого языка, который объединит человечество “в среде, из которой его вырвали”. Эти колебания между индивидуальным и общественным буквально не оставили места для социальных разработок.
Вертикальное построение пространства – основной принцип организации всех проектов. Двери в потолке или отдельно стоящие лестницы, отражающие устремление ввысь – нормальная реакция на спартанские условия советского быта.
Удивительно разнообразие проектов, на создание которых художника вдохновили полеты человека в космос. Космонавт становится объектом работ без прямого упоминания, но иносказание позволяет удивительным образом провести параллель между пространством квартиры и пространством открытого космоса, между внутренней и внешней вселенной. Форма ракеты космонавта – закрытая капсула – приводит нас к парадоксальному выводу: замкнутое пространство может заставить двигаться. Кроме того, космонавт – это один из немногих источников национальной гордости, героический персонаж, некоторым образом идеализирующий саму идею замкнутости.
Творческая идея необходимости вертикального движения вверх при построении пространства отразилась в дизайне “Дворца” Кабакова, где посетитель должен двигаться, поднимаясь по спирали. Эта динамика сродни постоянному развитию творчества художника, его манере следовать новым историческим направлениям, не оставляя первоначальных принципов. Творчество Кабакова одновременно реалистично и сказочно-идеалистично, притягательно и неукротимо.